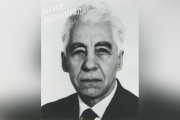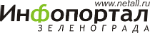Важно
Тор 10
«Тайна Чингис Хаана»: и друг степей якут
Первое, что бросилось в глаза еще задолго до выхода картины в прокат — это необычное для русского глаза написание имени личности, известной еще из школьного курса истории. Чингисхан, вместе, или через черточку, что не суть важно, как-то попривычнее. Ближе к появлению фильма на экранах кинотеатров России стали обращать на себя внимание другие занимательные подробности. Так, режиссер Андрей Борисов, дебютирующий этой масштабной двухчасовой картиной в большом кино — фигура с весьма богатым бэкграундом: главный режиссер Якутского государственного драматического театра, лауреат Государственных премий и премии «Золотая маска» и, что особо интересно, министр культуры и духовного развития Республики Саха, как официально называется Якутия. Борисов уже ставил в своем театре спектакль по этой книге Лугинова, который, в свою очередь, является вице-президентом Академии духовности Республики Саха. Все вышеперечисленное, равно как и то, что бюджет картины (а он составляет солидную для наших земель сумму в 10 миллионов долларов) сложился из денег правительства Республики Саха и поддержки якутской алмазной компании, наводит на мысли о национальном идеологическом проекте, каковым фильм, по сути своей, и является. Рядовому зрителю все это знать совершенно не обязательно, его интересует художественная и развлекательная составляющие, и с этим у картины, позиционирующейся как первый национальный проект в новейшей истории российского кино, существуют явные проблемы.
Впрочем, один факт из биографии создателей — их богатое театральное прошлое и настоящее — становится очевиден неоднократно за время просмотра. За исключением батальных сцен, которые сняты с размахом и массовостью, и пейзажей природы, коим тоже отдано немало экранного времени, вся остальная драматургия и актерское мастерство напоминают смесь японского театра Кабуки с провинциальным спектаклем. Диалоги и реплики решены все больше на повышенных тонах и с нескрываемым пафосом, а картинные позы, которые принимают герои, роднят их с восточной неторопливостью и замедленностью. Если же говорить о содержании картины, то оно не сильно отличается от недавних предыдущих опытов в этой области Сергея Бодрова-старшего с его «Монголом», сменился только вектор. Ну, и реализация замыслов режиссера и съемочной группы, а они претендовали на нечто эпическое и грандиозное, оказалась настолько слабой, что даже как-то грустно. В особенности от того, что фильм вышел в достаточно широком прокате, но вряд ли вернет даже малую часть затраченных на него средств. А ведь на дворе кризис, знаете ли.
Так что же происходит на экране за два часа полезного времени? Хан Есугэй берет в жены предназначенную ему солнечным затмением девушку Ожулун, у них рождается сын Темучин. После гибели отца Темучин покидает родной дом и вынужден долго скрываться, расти и копить силу. Сам Темучин с детства обручен с девочкой Бортэ, которая вырастет, и станет красавицей и его любимой женой. Кругом, как водится, строят козни враги из разных племен, включая кровных родственников. У Темучина есть два брата — названный побратим Джамуха, который тоже станет могучим воином, и шаман Хохочой. С обоими у будущего правителя необъятных степей развиваются непростые отношения, от преданности и вплоть до проклятий и предательства. Сам Темучин — избранник бога неба Тэнгри, и стремится к соединению враждующих племен под властью единого закона. Кроме Вечного Синего Неба, на которое герои ссылаются регулярно, проводя режиссерскую линию о единобожии в лице Тэнгри, есть еще христианский католический священник брат Иоанн, невесть каким ветром занесенный в эти степи. Он постоянно взывает к прекращению междоусобиц, взывая, что твой кот Леопольд: «Все люди — братья!», читает узкоглазым детишкам Священное Писание и в итоге крестит Чингис Хаана. А ближе к финалу появится и китайский мудрец, обучающий сына Темучина восточным единоборствам и записывающий иероглифами «тайную летопись монгольской жизни», которую он передаст Иоанну для дальнейшего распространения по всему миру. Наступает же финал, что называется «в начале славных дел», когда, победив всех внутренних врагов и объединив племена, Чингис Хаан готовится к дальнейшим подвигам. Как и в предыдущих современных картинах о великом воителе, до самих подвигов не доходит — а о них история знает много. Причем особенно много знает как раз земля российская, на которой татаро-монгольские завоеватели пролили немало крови. Впрочем, эта линия достаточно широко отражена в классическом советском кино, правда, там главными героями были совсем другие люди, а воители-кочевники как раз выглядели малосимпатично, мягко говоря.
Но дело, опять-таки, даже и не в этом. В конце концов, история кино знает немало примеров, когда жертвование исторической правдой в угоду задачам искусства, или даже государства (Лени Рифеншталь и Гитлер, к примеру, или многое из советского кинематографа) не мешало произведению стать классикой, причем заслуженно. Все гораздо проще: вот так вот стараешься, привлекаешь местные ресурсы в виде бюджетных денег, средств от добычи алмазов и монгольской конницы с пехотою, претендуешь чуть ли ни на современного Тарковского, а на выходе получается скука смертная, она же «У.Г.», если пользоваться сетевыми мемами. Познавательное в этнографическом смысле, но совершенно бесполезное в художественном. И тайна тут всего одна — зачем нацпроектам дался якутский Чингисхан, крепкий государственник и хороший семьянин. Но на нее нет ответа.
Алексей Леонидов
Другие новости культуры
Чтобы комментировать материал, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
|
|||||||||||||||||||




 Подписка на рассылку
Подписка на рассылку