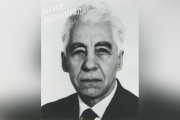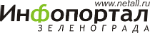Важно
Тор 10
«Я коренной крюковчанин, с улицы Осипенко»
«Тошнотики» из замерзшей картошки
Война давно откатилась на запад, шел 1945 год. Мы жили в двухэтажном бараке, и у нас перед окнами был небольшой огородик, сарайчик, из крыши которого торчали две высокие сосны. [...] Помню, как ели «тошнотики» из замерзшей картошки, очистки от нее жарили на плите и ели. А картошку мы находили по весне, которая осталась на колхозном поле. [...] Когда война закончилась, начали возвращаться мужики, израненные и душой, и телом. Но большинство не вернулось. [...] Помню, как на стеклодувной игрушечной фабрике в административном двухэтажном здании нам показывали кинокартину «Падение Берлина». Это было не то в 1946-м, не то в 1947 году, а 1 апреля 1953 года это здание сгорело.

27 октября 1941 года — 25 октября 2017 года
На протяжении последних десяти лет Николай Алексеевич работал в Музее Зеленограда. Несмотря на скромную должность рабочего, он проявил себя творческим человеком, активно включился в краеведческую работу музея. Родившись в Крюкове в период ожесточенных боев под Москвой, когда немцы стояли на пороге Крюкова, он впоследствии много сил и времени отдал изучению истории своей малой Родины. Был активным членом зеленоградского краеведческого объединения «Земляки», собравшего коренных жителей поселка Крюково, создал в зеленоградской краеведческой библиотеке № 255 музей, посвященный Крюкову. Николай Алексеевич занимал активную жизненную позицию: писал стихи, сотрудничал с общественными организациями, был очень отзывчивым человеком, помогал всем, кто к нему обращался. Коренной крюковчанин, рабочий с душой поэта, исследователя и патриота. Его жизнь была тесно связана с Крюковым, где он родился, когда еще не было Зеленограда, и прожил всю свою жизнь.
Хорошо помню вкус американской тушенки в высоких банках, как ее называли — «второй фронт». Когда дядя Петя вернулся, он вытащил эту банку из вещмешка и дал нам, полуголодным ребятишкам.
В 1947 году отменили продовольственные карточки. Я помню, как мы с мамой пошли в магазин за мукой, он находился в двухэтажном здании, которое было рядом с московской платформой. Там была амбулатория и еще какие-то заведения [...]
В 1949 году я пошел в школу. Это было одноэтажное кирпичное здание. [...] На территории школы, метрах в 50 от нее был еще один маленький деревянный домик [...] и в нем было два класса, где стояли парты и нас там учили. Учеников было много, а классов мало. В первом классе у нас было около 50 человек. Помню, что в третьем классе сидели по три человека за одной партой и учились мы даже в три смены. А в первый класс я пошел с отцовской военной сумкой: портфелей почти ни у кого не было. Писали карандашами, ручкой давали писать тогда, когда уже почерк начал вырисовываться.
Помогали взрослым поворачивать паровозы
Через железную дорогу был пешеходный перекидной металлический мост, разбомбленный, середины моста не было. Был еще поворотный круг, паровоз заезжал на его середину, а под углом из ямы по обе стороны от паровоза торчали две длинные ваги, толстые, все в мазуте. Цепляясь за них, мы помогали взрослым вручную раскручивать паровоз и ставить его на нужный путь и, естественно, нас матери ругали за то, что мы приходили чумазые.
Электричества у нас не было. А когда пустили электрички, они ходили только до станции Крюково. Это было в 1952 году. Провели и нам свет и радио, а до войны и во время войны у нас был свой граммофон.
Носили молоко семье Лавочкина
До шестого класса я проучился на улице Вторая пятилетка, а в седьмой класс пошел в новую железнодорожную школу № 54. Сейчас в этом здании вместо школы находятся учреждения Управления дорожного хозяйства и благоустройства, а рядом шлакоблочный домик, раньше в нем была баня. Когда построили школу, то в этом домике были мастерские для уроков труда. А в настоящее время в нем находится продовольственный магазин.
В нашей школе было много кружков. Руководителем кружка машиноведения был Юрий Филиппович, он же вел и военное дело. Нам дали три сломанные машины полуторки, и мы своими руками из трех машин собрали одну и учились на ней ездить. У меня лично были любимые занятия по физкультуре (брусья и перекладина), а также стрельба и машиноведение. По стрельбе я участвовал в отборных соревнованиях и занял первое место по Московской области среди школ.
С девятого класса я ушел из школы и хотел устроиться на 301-й завод, где генеральным авиаконструктором был Семен Алексеевич Лавочкин. [...] С конца сороковых годов я и мои сестры носили им молоко. Летом они всегда жили здесь, в районе станции Крюково. У них здесь была дача. И семью его знал, и самого видел несколько раз. [...] Приехали на завод в отдел кадров. Там мне сказали: «Когда закончишь 10 классов, вот тогда возьмем тебя с удовольствием» [...] Я очень любил технику. Доехал до Останкина и прямым ходом в 6-й автобусный парк, где устроился работать в должности кузовщика-жестянщика и продолжал учиться в школе рабочей молодежи.
Дача Лавочкина

А вечером танцы под радиолу...
[...] Наше озеро Водокачка — это чудо. Один водопад какое величие имел! Лодки, островок с шалашиком, футбольное поле, палаточки со всякой всячиной, фотографы. Лодки давались на час под залог. Народу всегда было очень много, драк и пьяной молодежи почти не было. А вечером танцы под радиолу. Красота! И вокруг много зелени.
За лесными дарами, как говорится, мы не имели понятия куда-нибудь ехать, как сейчас. У нас все здесь было, даже клюква на малинских болотах росла. [...]
А на территорию аэродрома нас всегда тянуло. Военные летчики нас подкармливали, когда у них шли фильмы, они нас пускали смотреть. Когда аэродром стал досаафовским, кто был постарше, вступал в эту школу, и там учили планеризму, прыжкам с парашютом, летать на «Яках». В общем, жизнь была насыщенной и полезной.
Были у нас Крюковское и Сходненское лесничества, был и питомник, где выращивали лесные саженцы. Их высаживали не только в Крюкове, но и в близлежащих деревнях, по Солнечногорскому району. Это был тяжелый труд. Помогая матерям, мы это почувствовали на себе. Чтобы посадить саженцы, нужно было нарезать земляные борозды, ровненькие, потом специальным буравчиком пробуравить лунку и посадить его.
Потом эти саженцы окучивали, а когда они зарастали травой, их окашивали.
Для коньков у нас был лед озера Водокачка
[...] За последней посадкой мы ухаживали в 1964–65 годах. Она находится на территории между водозаборным узлом и танком-памятником Т-34. Деревьев было посажено много, но я вам назову те, что находятся на территории Зеленограда. Это — в 8 микрорайоне, в 9 микрорайоне, у Малина, где кинотеатр «Электрон», в 11-м микрорайоне у озера Водокачка, у памятника «Танк Т-34». Очень жалею, что их урезали строительством.
[...] Катались мы на самодельных лыжах в карьере, у дачи Лавочкина, там же были генеральские дачи. Это у нас называлось «Лисьи горы», а где 11-й микрорайон — «Ивановские горы». Для коньков у нас был лед озера Водокачка. Все время чистили от снега и катались – не только на коньках, но и на тарантайках. Цеплялись за машины длинными крючками. Шофера догонят, срежут с валенок коньки, вот и идешь за ним: ноешь, сопли размазываешь, он сжалится, отдаст. Коньки были не у всех ребят.
Ну а летом было полное раздолье.
Но самое главное — это сенокос. У большинства жителей были коровы. Так что, хочешь или не хочешь, а бери косу, грабли, и за матерью бежишь, как шнурок. На возраст скидки не было. За повалом ездили на ночь, чтобы записаться поближе и пораньше приехать.
После армии не узнал свое Крюково
Мы быстро стали взрослыми и заменили погибших отцов. Вот как наши матери пережили, преодолели все то, что выпало на их долю, при этом не потеряли материнских чувств, целомудрия, женственности — это нельзя измерить никакими мерками.
[...] Когда я вернулся из армии через три с лишним года, я не узнал свое Крюково. Оно стало чужим, а дальше еще хуже. На моих глазах уничтожали живую природу, превращая в железобетон.
После армии я поменял много профессий и мест, пока не познакомился с технологом по литейному цеху Бочаровым Павлом Захаровичем. Я просто заболел этой профессией. На пенсию ушел с литейки завода «Элион». После ухода на пенсию пошел плотничать по деревням, а когда надоело, устроился в РЭУ в 10-м микрорайоне Зеленограда. Сейчас работаю в музее (ГЗИКМ), а в 1974–75 годах работал на заводе по изготовлению стеклянных пуговиц. Был прессовщиком горячего стекла.
Сейчас живу в корпусе 1005, рядышком со своим бывшим домом, который снесли в 1975 году. […]
Нашей улицы не стало
Что такое Осипенко?
Это улица моя —
Тополиная аллейка,
Три березки у ручья.
Дворик наш, в рядок сараи,
Сад, колодец колесом,
И карьер, где мы играли,
Бегали там босиком.
Всех прекрасней мест на свете
Там, где озеро у нас.
Старики, старушки, дети
Приходили хоть на час.
Жили весело и дружно.
Двери настежь, без замков.
Помогали, кому нужно,
Уважали стариков.
Есть у нас всему начало.
И конец, он тоже есть…
Нашей улицы не стало.
Ну а память — память есть.
Не забыть нам наше детство,
Юность, нежную любовь.
К тем местам, где мое сердце,
Возвращаюсь вновь и вновь».
Благодарим за помощь в подготовке материала и лично Марию Акимову
Фото из архива Музея Зеленограда и Н.А. Гарашина. Воспоминания Н.А. Гарашина опубликованы в сборнике «Очерки истории края. Дети войны». Сборник трудов Гос. Зеленоградского ист.-краев. музея. Вып. 8 / Науч. Ред. И сост. Н.И. Решетников. М.: «Сделано в Зеленограде», 2011 г.
Другие новости





 Подписка на рассылку
Подписка на рассылку